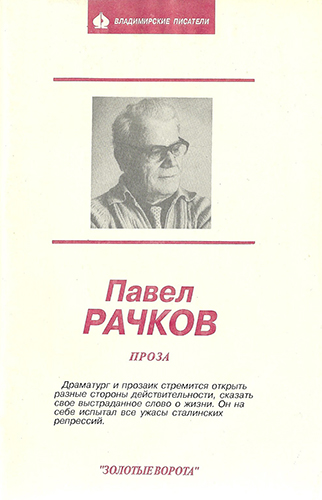13:22 Я МНОГО ПОМНЮ… Рачков П.А. Часть 1 |
Я МНОГО ПОМНЮ… Рачков П.А. Я много помню... Записки ровесника Страны Советов. — Владимир: Золотые Ворота, 1995. — 72 с. /Серия: «Владимирские писатели»/ Вступительная статья, оформление, библиография — издательство «Золотые Ворота», 1995
В мемуарных очерках с использованием архивных документов описывается, как власть большевиков меняла уклад жизни владимирских крестьян. Частушки 20-х годов, героями которых были Ленин, Троцкий и их соратники, живо свидетельствуют об отношении к революционным переменам самих крестьян.
«Я ВЕРИЛ, ЧТО СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ» А.И. Солженицын, выступая во Владимире и приветствуя владимирцев со сцены областного Дворца культуры, тепло обнялся с высоким и крепким пожилым человеком. «Мы на бушлатах носили номера», — пояснил писатель.Этот человек — Павел Алексеевич Рачков. Действительно, в их судьбе, было немало схожего. Они ровесники, литераторы, сохранившие независимый образ мыслей, достоинство и бесстрашие, несмотря на долгие годы сталинских лагерей. Павел Алексеевич, как и Александр Исаевич, сочинил свое первое литературное произведение — пьесу «Возвращение» — в лагере, без пера и бумаги: «спрятать» ее в голове было надежнее. И спустя годы опытный уже драматург, чьи пьесы были поставлены в нескольких театрах России, посвятил лагерной теме новые пьесы и повести: документальную повесть «За вороньим царством» и «Друг мой северный». Но главное, что приближает Рачкова к Солженицыну — это стремление «жить не по лжи», не утраченная за долгие годы скитаний, способность бороться с несправедливостью, бороться против лжи, разъевшей, как ржавчина, все государство и души граждан; стойкость духа, позволившая сохранить силы, талант, память, работоспособность для этой борьбы. На своем 80-летнем юбилее П.А. Рачков пошутил: «Прожил я не 80, а только 66 лет, потому что 14 лет провел в тюрьмах, лагерях и в ссылке. Какая это жизнь? Видно Бог, определяя мой предел, не засчитал эти годы». Павел Алексеевич, как он сам отмечает, — человек исконно владимирский, хорошо знающий и любящий свой край. Он родился в семье крестьянина Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии за три года до Октябрьского переворота, отлично закончил школу и поступил в 1932 году в Редакционно-издательский техникум ОГИЗа. Там преподавали известные ученые: профессора А.А. Реформатский, И.Ф. Бельчиков; родоначальник художественного редактирования как специальности П.И. Суворов; К.К. Овсянников, И. Кричевский. После учебы он стал первоклассным специалистом в сложном полиграфическом, а затем и в издательском делах, в которых требуется и эрудированность, и развитый литературный вкус, и, наконец, талант. Но издательское дело в 1930-е годы — это прямая дорога на каторгу для честного и умного человека. И Павел Алексеевич в самом начале профессионального пути попадает в тюрьму, затем в ссылку. Вот как писал он свою первую пьесу: «Заключённый Минлага с номером И-667 на бушлате, возможно, и раздобыл бы бумагу, например, при бетонировании ствола интинской шахты № 11-12, где приходилось работать, — вспоминает Рачков, — мешки из-под цемента легко расслаивались. Из них можно было нарезать превосходную бумагу. Пяти мешков хватило бы на одну пьесу. Можно раздобыть и карандаш (перо труднее). Но свиреп «господин Шмон». Понадеешься на бумагу, а ее отберут при обыске. «Писача» посадят в карцер, за нарушение режима, а то и новое дело «приклепают». Пьеса-то о возвращении «оттуда». В ней, по тем временам, что ни реплика — криминал. Надо было запомнить страниц семьдесят, состоящих из реплик и ремарок — никакой «шмон» не обнаружит». Как рождалась пьеса? В воображении будущего драматурга заспорили два человека, зазвучали их голоса, стало интересно, чем разрешится спор. Он вслушивался в эти голоса, менял их, сталкивал — создавал картину за картиной. «Года два носил в голове готовую пьесу. Вносил поправки. Это помогало коротать время, не замечать мерзкой лагерной жизни», — рассказывает Павел Алексеевич. Он описывает такую сцену: в свете всегда ярких прожекторов, помогавших надзирателям обнаружить недозволенное, кружатся снежинки. Зеки переминаются, толкают друг друга, чтобы согреться. А он смотрит на пляску белых мух, «прогоняет» очередную картину. Что-то говорит сосед справа. Рачков вздрагивает, отвечает невпопад, вызывая смех товарищей. Этому тайному творчеству способствовало общение с незаурядными людьми — зеками. Среди них были А.Я. Каплер, известный кинодраматург, В.А. Шнейдеров (позже известный как ведущий. «Клуба путешественников»). Однажды, поднимаясь из шахты в одной бадье с А.Я. Каплером, они застряли в стволе. «Что будем делать?» — спросил Каплер. «Пьесу слушать», — ответил Рачков. И Павел Алексеевич стал «читать» вслух часто пьесы: там никто не мог подслушать. Не скоро суждено было пьесе увидеть свет. После окончания срока вместо свободы Павел Алексеевич, как и тысячи других, получил вечную ссылку в Кочмес — самое дальнее отделение сельхоза «Большая Инта» (словом «сельхоз» называли сельскохозяйственное предприятие, где использовался труд заключенных). Об этом, можно прочесть в автобиографической повести «За вороньим царством». Первые месяцы в Кочмесе оказались более жесткими, чем последние в лагере. Он так и написал в лагерь другу, писателю Ивану Савичу: «устроился хуже, чем мы с тобой предполагали, ну, на худой конец». Но несмотря на невыносимые условия, с наступлением светлых полярных ночей драматург стал писать: на разноцветных и разноформатных листках. К сожалению, эта рукопись, пролежавшая многие годы в самодельном чемодане, не сохранилась. А ведь место ей — в музее. В пьесе есть сцена, где два главных героя — Новодарекий и Рублев — говорят о будущем. Первый спрашивает: «Вы верите, что все это изменится?». Рублев отвечает вопросом: «У вас это первая зима за Полярным кругом?» Собеседник подтверждает: первая. Рублев продолжает: «И что же, когда солнце перестало показываться на горизонте, вы усомнились в нем? Перестали верить солнцу?» Новодарский: «Жутковато. Но я верил, что солнце взойдет». И Рублев ответил: «И я ни минуты не сомневался…». Этот диалог важен для понимания личности самого автора: вера в неотвратимость перемен к лучшему, в непреложность возвращения света после полярной ночи, эта вера — основа оптимизма писателя и его жизнелюбия. Уже тогда, в лагерях, Рачков и его товарищи смело рассуждали между собой о том, что будет с Россией через 50 лет и предвидели те перемены, которые мы дождались недавно. Пьеса «Возвращение» была поставлена в конце хрущевской оттепели М. Ваховским на сцене Тамбовского театра. Она пользовалась успехом у зрителей. В этом же театре готовилась к постановке другая пьеса П.А. Рачкова — сатирическая комедия «Догоните бабушку». Даже читать без смеха ее невозможно: во многих репликах немало юмора, в ней высмеивается мир приспособленцев брежневских времен, готовых в любую минуту прогнать бабушку, у которой в квартире не сделали ремонта по их вине вовремя, а после — всю пьесу догонять бабушку при известии о том, что она член Верховного Совета или мать известного фельетониста. Но в Тамбове, где тогда жил писатель, пьесу запретили: вмешалась секретарь обкома по идеологии О.К. Сазонова. Она усмотрела крамолу в пьесе автора, вернувшегося «оттуда». Пьеса была поставлена во Владимире народным артистом РСФСР И.Ю. Туйметовым в 1976 году. В этом же жанре сатирической комедии об «успехах» развитого социализма написаны многие сатирические сценки: «Тюхи и Матюхи», «Как мы с Витькой были министрами», «Не тот масштаб», «Горе помидорное» и многие другие, увидевшие свет в репертурных сборниках. Павел Рачков написал девять больших и двадцать две одноактные пьесы. Его малые пьесы «Блаженный» и «Хрустальный букет» на всесоюзных конкурсах драматургов были отмечены вторыми премиями. По пьесе «Блаженный» режиссером-постановщиком Л.К. Дуровым в 1971 году был создан телевизионный фильм. Одноактные пьесы Рачкова печатались в сборниках и отдельными книжками в издательстве «Искусство». Они были замечены: критикой. Во вступительной статье к сборнику пьес «Три тюльпана», вышедшему в издательстве «Искусство» в 1988 г., А. Бармак писал: «В пьесах видна социальная позиция драматурга. Чувствуется взгляд на жизнь человека неравнодушного, умного, и, что весьма привлекательно, доброго. Автор умеет откликнуться на все, что происходит в окружающей его действительности, и обладает завидной способностью болеть за происходящее вокруг него, причем он видит не только теневые стороны жизни, но и добрые начала в ней. Главное, он верит в добро и может увлечь своей искренней верой в добро и нас... Почти в каждой своей пьесе автор говорит о том, как следует понимать, что такое совесть, что такое честь, что такое нравственный закон, который должен жить в человеке и руководить всеми его поступками, не разрешая ему оступиться». Но, к сожалению, «тамбовская» история с запретом пьесы, повторилась в творческой судьбе П.А. Рачкова не раз. Большие пьесы оставались в столе: лирическая драма «Два месяца с волшебником», пьеса «Конокрады» о жестокостях подростков, сатирическая комедия «Пилюля». Волей-неволей пришлось драматургу перейти на прозу. Опыт уже был: первая повесть «Везет человеку» была опубликована раньше, в 1970-е годы в журнале «Волга». Она о полиграфистах, и вышла отдельной книжкой в Ярославле. Павлу Алексеевичу хотелось открыто писать о пережитом. Но возможно ли это было во время застоя? Он вспоминает: «В советское время перед честным писателем всегда стоял вопрос: о чем писать? Те, что не хотели творить по велению сердца, неизбежно сражались с внутренним цензором, который требовал: «Тут смягчи», «это убери». Уступка за уступкой себе, потом редактору — в результате получалось по воле цензора. Для меня тема лагерей была неисчерпаемой, как для писателя-фронтовика тема войны. Но для того, чтобы эта тема «прошла», надо было как-то исхитриться, обмануть редакторское политическое чутье». И вот, в повести «Белый караван», описывающей героический перегон заключенными гурта коров через Большеземельскую тундру, пришлось создать маскировку: заменить подлинные имена, Инту на Ирту, оставив ряд названий, не упоминать слов «заключенный» и «ссыльный». Но люди, носившие номера на бушлатах, поняли, что стадо ведут заключенные. Повесть напечатана в Ярославском издательстве: остроту редакторского глаза притупило напряженное повествование. Дойдет или не дойдет стадо, растянувшееся по льду в цепочку на много километров? Черно-пестрые коровы побелели от инея (отсюда название «Белый караван»), вот-вот начнут падать от усталости, и тогда проломится лед. Что тогда будет с людьми, которым в те страшные времена был поручен этот перегон? Жаль, что во время подготовки повести к печати автор не мог сказать, что стадо ведут заключенные, своими руками выпестовавшие этих коров в 20 километрах от Полярного круга: напряжение многократно усилилось бы, но тогда редакция не приняла бы такую повесть. Решил Павел Алексеевич писать для детей: «Сказочные цари могут быть плешивыми и усатыми, густобровыми и с родимыми пятнами на темечке, — шутил П.А. Рачков. — Их можно бранить и даже свергать». И вот «Хрустальный букет» много лет с успехом шел на сцене кукольного театра, и не только во Владимире. Его семь раз печатали в журналах и сборниках. Понравились детям сказки — «Мишка-Доброхот», «Книжкины заступники», «Завихряй», «Заарканенное солнышко». Пока не опубликована только сказка «Семизубец-несоврин». «К этой сказке, — говорит Павел Алексеевич, — я шел с раннего детства. Мне хотелось, чтобы врунов всегда косоротило. Только не знал, как этого добиться. И вот на старости придумал «Семизубец». Это сказочный детектор лжи. Жаль, что сказка пришлась на пору оголтелой коммерции. Но я надеюсь, что она увидит свет». Но и в произведениях для детей редакторы умудрялись находить крамолу! «Тамбовский» синдром был живуч. Рукопись повести «Моя лошадушка» долго лежала в издательстве: редактор нашел криминал в том, что лошадушку, любимицу мальчика Павлика и всей округи, погубил председатель колхоза. Рукопись была возвращена после двух лет «отбывания» в столе редактора. Автор потребовал передать другому редактору. И сказка была опубликована, и разошлась за три месяца тиражом 50000 экз. «Тамбовский» синдром срабатывал не раз в судьбе П.А. Райкова. Автор пьес, которые с успехом шли на сценах, трех повестей и пьес, напечатанных в различных изданиях, лауреата Всесоюзных конкурсов драматургии не принимали в Союз писателей: надолго жирный крест был поставлен на судьбе этого человека. Лишь в 1989 году он получил членский билет Союза писателей. П.А. Рачков закончил серию документальных очерков «Я много помню» с подзаголовком «Записки ровесника Страны Советов». Когда-то критик А. Бармак писал о наиболее характерной черте творчества Рачкова: «Невыдуманность ситуаций, их, жизненность, несомненно, составляют сильную сторону дарования автора». Эта сторона дарования в очередной раз ярко проявилась в последней книге писателя. Это книга воспоминаний о детстве, о юности. Нелегкое детство было у людей этого поколения. П.А. Рачков пишет: «Почитайте повести о детских годах Толстого, Аксакова, Гарина-Михайловского. Какие светлые воспоминания! А что вспомнить моему поколению? Пронзительный плач соседки по уведенной со двора корове? Пальбу под обрывом? Лучину? Домотканые штаны? Все это накрепко врезалось в память, потеснив немногие светлые, выпавшие на нашу долю воспоминания». Мы мало еще знаем правды о тех временах, которые освещались советскими историками и литераторами фальсифицированию. В книге П.А. Рачкова описывается много невыдуманных историй о том, как на самом деле это было, как вошла власть большевиков в жизнь крестьян владимирских земель, что внесли революционные перемены в крестьянский уклад, как истреблялись тогда дух и корни русского народа, и как удивительно наши люди находили способы сохранения традиций, сохранения семей, несмотря на все жестокие и нелепые методы управления комиссаров-большевиков, совесть у которых, по выражению П.А. Рачкова, «бабка-повитуха еще при рождении с пуповиной оторвала». Ценным является использование фольклора тех лет, героями которого были Ленин, Троцкий и их верные соратники: именно в частушках проявилось истинное отношение народа к своим вождям. Павел Алексеевич — хороший рассказчик. Писались очерки с душевным волнением, с искренностью, с нежностью к своим землякам, к своим родным, с любовью к земле, на которой родился и вырос. Татьяна ВАСИЛЬЕВА, кандидат филологических наук ОТ АВТОРА За плечами у меня большая жизнь...Родился я на три с половиной года раньше Октябрьского переворота. Был пионером, комсомольцем, учился крестьянскому делу и книгопечатанию. Был издателем, полиграфистом и «врагом народа». Я много помню и имею свое суждение о жизни русской деревни в первые годы советской власти и в двадцатые годы. Неплохо знаю и городскую жизнь. Советские историки и литераторы осветили нашу жизнь больше в розовых тонах. А те, что оказались за рубежом, не удержались от сгущения мрачных тонов. Мне захотелось рассказать людям без прикрас и злопыхательства, как мы жили при советской власти, о школе тех лет, о классовой борьбе, о «классовом чутье» и «революционной совести», заменявшей комиссарам законы, о страхе, пронизывающем всю нашу жизнь. В каждом очерке, доверяя собственной памяти, на которую я до сих пор не могу пожаловаться, изредка используя архивные документы, я старался на каком-нибудь примере показать атмосферу жизни, не делая глубоких обобщений, кроме тех, что сами напрашиваются. Большевики блестяще владели умением замалчивать факты. Им удавалось скрывать от своего народа даже то, что, казалось, скрыть невозможно. Например, гигантские масштабы лагерей. Весь Крайний Север и Дальний Восток были опоясаны колючей проволокой. А что об этом знали москвичи, жители других больших и малых городов центральных областей? Они имели очень смутное представление. Казалось бы, вернувшиеся «оттуда» должны рассказать, за что страдают миллионы людей. Вольные граждане должны прийти в волнение. Но конвейер отлажен и работает так, что «оттуда» возврата нет. Часть расстреляна, еще большая часть легла в мерзлую землю, а те, что уцелели, тоже не возвращаются, Им определено вечное поселение у Полярного круга. А единицы, отпущенные домой умирать, были немы, как рыбы. Палачи и стукачи чувствовали себя комфортно. Вот что такое сокрытие фактов. Насилие — основной метод большевизма. Эта книга будет полезна тем, кто верил, что бывшие хозяева фабрик, воровато оглядываясь, подсыпали наждачный песок в подшипники станков, кто верил, что «кулаки, ослепленные классовой ненавистью», поджигали колхозные нивы и скотные дворы». Я таких фактов не знаю. Но хорошо знаю, как фабриковались дела о «вредительстве». И не только в 1937 году, но и в семидесятые годы. Помню, на Тамбовщине в одном колхозе случилась беда. Пьянчужка водовоз, будучи в тяжелом похмелье, привез в поле женщинам, работавшим на прополке свеклы, воду в бочке, в которой были остатки ядохимикатов. Шесть трупов увезли с поля. В одночасье овдовевшие мужики так побили отравителя, что он умер, не успев сказать следователю КГБ, чье задание он выполнял. А следователь очень старался, подсказывал варианты, чтобы «раскрыть» громкое дело, увязать его с другими «наработками». Но пьяница до последнего вздоха твердил: «Бочки похожи, а бригадир насел, потому что я проспал». И если бы бог не прибрал бедолагу, он «вспомнил» бы, кто его подбил на такое злодеяние. В КГБ тогда работали цепкие ребята. Газеты «замолчали» это дело. Такие факты, говорили тогда, не для печати. Потому о катастрофах и зверских убийствах говорилось мало. Но я не собирал такие факты. Я брал в строку те лыки, которые помогут людям лучше понять бытие ровесников Октября. Все имена и названия мест действия подлинные. ЧУЖАК Взяться за эти записки меня побудила встреча с митингующими па площади Революции под красными стягами и с портретами усопших вождей. Живя во Владимире, я слышал о непрерывном митинге ветеранов КПСС близ музея Ленина. Телевидение иногда показывало эти митинги. Мне говорили, что операторы специально выхватывают самые агрессивные лица. А вообще-то, мол, это симпатичные старики и старушки, озабоченные «беспределом» и «развалом», «близостью края пропасти», к которой ведут страну демократы. Будучи в Москве, я решил своими глазами посмотреть на «озабоченных судьбами страны».Столпились большей частью старушки. Все хорошо одеты и обуты, На головах меховые шапки, чаще номенклатурного покроя. В магазинах такие не продавались. Их распределяли по спискам и запискам из обкомов партии, так же, как и мужские пыжиковые. Шились они в специальных закрытых мастерских. Подхожу, чтобы завязать разговор с пожилой женщиной в вязаной шапке. Мимо митингующих к метро потянулась цепочка сошедших с автобуса. Мужчина средних лет остановился, сказал с улыбкой: — Что-то нынче вас маловато? Ух, как на него загалдели! Внятных реплик не понять, только обрывки: — Развалили страну! — Демократы поганые! Мужчина, видно не впервой ворошил муравейник, Дирижерским жестом взбодрил: — Давай, давай, беснуйтесь! Посыпались угрозы: — Таких стрелять будем! Одна держит в руках портрет Сталина. Фотография 30X40, наклеенная на фанеру и прикрепленная к древку. Захотелось узнать: — За что вы так любите Сталина? — При нем порядок был... — Весь мир знает, что он палач, — сказал я, сдерживая голос.— И не стыдно вам демонстрировать свою любовь к тирану? — При нем порядок был, — повторила женщина. — Но ведь миллионы жизней на его совести. Миллионы ни в чем не повинных людей. — Знаем мы этих неповинных... — Да вы что, не читали выводы комиссии по реабилитации? — Они напишут, — не сдавалась сталинистка. — Я сам провел 14 лет в лагерях и ссылке. — Значит, было за что. — Совершенно ни за что. — Меня вот почему-то не посадили, — парировала, вскинув повыше портрет. — До вас у кэгебистов просто руки не дошли. Вас окружали хорошие люди. Они не написали на вас доноса. А если бы написали — все! Загремели бы на край света. — Да что они напишут, если я чиста перед советской властью?! — Какая наивность! — Ну, что, если я... чиста. — Кому-то нужна ваша должность, кто-то захотел расширить квартиру за счет вашей комнаты в коммуналке, кому-то приглянулся ваш муж, с кем-то вы обошлись строго. Вот вам и повод для доноса. — За разговор такой срок не дадут. Ни в жизнь не поверю. Действительно трудно поверить, за что давали такие убийственные сроки, будто разбойникам каким. Лично я не знаю зеков по 58-й статье со сроком в три года. Возможно, кому-то местные судьи и определили такой срок. Но в основном получали 10—15—25 лет и «вышку». Такие же сроки давали и женщинам. Советская власть в этом деле строго придерживалась равенства полов. «Враги народа» в юбке не заслуживали снисхождения. Между прочим, 58-я статья позволяла давать и малые сроки, но была установка на полную изоляцию вражеских элементов. Незадолго до поездки в Москву я опубликовал стихи о Сталине, пролежавшие в ящике 37 лет. Раньше предлагать редакциям было бесполезно и опасно, а потом, думалось, поздно: все сказано. Но и сейчас слова «о великом друге и вожде», идущие от самого сердца, не утерпел, прочел сталинистке: Он опустошил паши деревни, Надругался хуже, чем Мамай. — Война, Гитлер опустошили, — перебила поклонница вождя. Я продолжал: Не щадил культуры нашей древней, Все, что свято, бей, круши, ломай. Сталинистка отпрянула и насторожилась. Я обрушил на нее выстраданные слова: Сталин — искалеченные судьбы, Сталин — это пытки, лагеря. Учинить над ним народный суд бы. Жертвы его пусть заговорят. Он повинен в смерти миллионов Честных и порядочных людей, Увезенных в черных эшелонах. Он в веках пребудет как злодей! Последние слова я уже рубил с азартом митингового оратора. Демонстрантка, не ожидавшая от старика такого выступления, несколько секунд стояла в растерянности, потом метнулась в сторону, шепнула «своим», что в их ряды затесался чужак и пытается мутить воду. Ко мне подошел мужчина, смерил опытным глазом с головы до носков и тихо, но твердо сказал: — Мотай отсюда! Слышу с другого бока женский злой голос: — Агентам Ельцина и Солженицына здесь нечего делать! Я почувствовал себя в окружении стаи. Для них я был «классово чуждым элементом». Не дожидаясь, когда кто-нибудь крикнет: «Ату его!» — решил ретироваться. Я не из робкого десятка. Но жизнь научила не лезть на рожон. Да и что я докажу убежденным большевикам. Говорят, оспу прививать телеграфному столбу нет смысла. Лучше сесть за письменный стол и продолжить начатый спор обстоятельно. Хочу, чтобы мой огромный жизненный опыт пригодился тем, кто колеблется, не знает, под какие знамена встать. Я не буду подсказывать, за каким движением или партией идти, но совершенно твердо могу сказать, за кем не надо идти, чьи идеи ложны и вредны. Я МНОГО ПОМНЮ Память человеческая гораздо бережнее хранит светлое, хорошее, чем злое, черное. Мои суждения о советской власти выстраданы и выверены огромным жизненным опытом. В них нет налета озлобленности невинно пострадавшего.Меня реабилитировали еще в 1957 году в хрущевскую оттепель. С тех пор я живу как все люди нашей большой страны. До недавнего времени проводил четвертую часть времени в очередях, в поездках в Москву за колбасой. Ходил на демонстрации по весне и осенью. Участвовал в субботниках. Как и все, голосовал за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. (А попробуй не проголосуй, тем более в моем-то положении, когда жена тоже прошла через лагеря и ссылку, а дочь родилась в неволе). Но я был более раскован, чем стопроцентные советские люди, которые боязливо оглядывались, когда я говорил о Брежневе: «Неужели в такой большой стране трудно найти человека, который покрепче бы стоял на ногах». С высоты своего жизненного опытах хочу осмыслить годы советской власти. Родился я в марте 1914 года. Десять месяцев я жил при временном правительстве Керенского и 76 лет при советской власти до ее кончины, о которой объявил президент России Борис Ельцин, после того, как россияне одобрили Конституцию, положившую конец советской власти. До 18 лет жил в деревне. Окончил школу колхозной молодежи. Потом учился и работал в городе. Я узнал жизнь по обе стороны колючей проволоки, так как 14 лет провел в тюрьмах, лагерях и в ссылке. Я помню царские деньги. В нашей семье их было, очевидно, мало. Когда стали говорить, что царские деньги пропали, большевики их не признают, отец с мамой особенно не горевали. У старшего брата отца, у дяди. Николая, видно много пропало. Приходя к нам, он корил себя за то, что не помог младшему брату, то есть моему отцу, купить коня-пахаря на смену костлявому Рыжке. «Копил, копил и дырку от баранки купил», — говорил дядя Николай. А я приставал к отцу: «Зачем дяде Николаю дырка от баранки?» Помню деньги «керенки». Отец их привез с базара, где продал овцу. Они были маленькие, со спичечную коробку. На всех углах цифра «40». Та же цифра посредине, только крупнее. Выпускались они лентами, наверно, штук по 25 и складывались гармошкой. У тетушки Пелагеи, сестры отца, тоже водились небольшие деньжонки и тоже пропали. Но ее муж, дядя Андрей, не унывал. Он был известным в округе сапожником, и любил говорить так: «Не горюй, Пелагея, у меня копейка под ногой. Возьму шило, дратву, молоток, — и керенки полетят под потолок!» У дяди Николая фольклор имел критический запал: Был царь Николашка, — был хлеб, была и кашка. Пришли большевики, — не стало ни хлеба, ни муки. — Но ничего, бог не обидит, свинья не съест, — продолжал он, поднимаясь с табуретки. — Вот придет Колчак, откроет ворота, — и посыплется мука, сахар, соль и всякая крупка. За то, что он возлагал большие надежды на адмирала Колчака, дядю Николая самого прозвали Колчаком. Поживи он еще лет пяток, его непременно бы арестовали за антисоветскую агитацию. Помню приезд в деревню продотряда. Комиссар в черной кожаной куртке и два красноармейца в шинелях, с винтовками. Собрали сходку. Комиссар говорил о том, что плохо живется городским рабочим. Нет хлеба. «В деревне хлеб есть, но кулаки зажали его. Хотят голодом задушить революцию». Мужики молчали. Осмелился сказать Сергей Федоров, отец моего приятеля Коли. — У нас тоже многого не хватает. Нет керосина, соли, спичек, гвоздей. — Ситчику хоть какого бы. Все подносились, — подала голос из толпы тетка Настасья. — Вот вы бы того, другого и привезли бы, — продолжал отец Коли Федорова. — Мы бы последним поделились. А вы с винтовками пожаловали. На что они нам? — Кто такой?! — строго спросил комиссар. — Федоров я. — Взять! — приказал красноармейцам комиссар и выхватил наган. Красноармейцы схватили Колиного отца, повели на край оврага. Мой отец подошел к комиссару и торопливо начал говорить. — Сергей Федоров бедняк. У него четверо детей, братишки, сестренки малолетки. — Комиссар отмахнулся. Отец продолжал: — у него недавно отец умер от тифа. — И это не подействовало на комиссара. Уже без всякой надежды отец выкрикнул: — Федоров только что с гражданской вернулся... по ранению. Комиссар остановился. — Документы! — потребовал от обреченного. — Дома, — ответил дядя Сергей. — Пошли! — повернулся к моему отцу: — И ты иди. Если обманываешь, вместе шлепнем. Я тоже пошел. Дом-то Коли Федорова, где я дневал и ночевал. В избу вошли продотрядчики, дядя Сергей и мы с отцом. Все топтались посреди комнаты. На печи заворочался больной дедушка Федор. Дети притихли. Малыши жались к ногам матери. Я смотрел на буденновские шлемы, как они, задевая за выступы потолочных балок, то сгибаются, то снова выпрямляются, миновав балку. Дядя Сергей подошел к божнице, взял свернутые в трубочку бумаги, сосмыгнул ленточку-перевязочку, предъявил комиссару. Тот стал читать, потом повернулся к дяде Сергею: — Что же ты сразу не сказал? — А ты не спрашивал. — Говори спасибо ему, — указал на моего отца, — а то могли бы... именем революции и руководствуясь классовым самосознанием. — Дружески хлопнул дядю Сергея по плечу. Стал расспрашивать, у кого можно взять хлеб? — В нашей деревне, — сказал дядя Сергей, — своего хлеба у мужиков хватает до Рождества. Редко кто дотянет до Пасхи. Здесь все плотники, столяры. Раньше ходили в Москву на заработки, чтобы прикупить хлеба. Теперь и купить не на что и не у кого. Печем пополам с картошкой. Добавляем жмых, вику. Вот погляди, чего едим, — показал ломоть, похожий на кусок дубовой коры. — У кулаков есть хлеб, — убежденно сказал комиссар. — Где они кулаки-то, — возразил дядя Сергей. — У нас полупролетарская деревня. — Деревня без кулака не бывает, — словно вбил гвоздь комиссар. — Пошли к маслобойщику! Дядя Сергей отказался идти, сказав, что у масленника хлеб покупной. Продотрядчики ушли без него. Когда за ними захлопнулась дверь, дядя Сергей крепко обнял моего отца. — Спасибо. Олеха, могли ведь, «руководствуясь революционной совестью...». — Совесть... какая совесть, — возмущался мой отец. — Совесть у него бабка-повитуха вместе с пуповиной оторвала. Оба рассмеялись. А тетя Шура, Колина мать, только сейчас поняла, какая беда висела над ее мужем, отцом четырех детей, опекуном малолеток братишек и сестренок, больного дедушки. В селе Спасском комиссар действовал круче. Об этом рассказал мой старший брат Саша, ходивший туда становиться на воинский учет. Там продотрядчики раскрыли «кулацкий заговор». Заговорщиков (двух мелких торговцев и священника) повели на расстрел и шлепнули бы, если бы не помешала учительница, которую большевики числили в своем активе. Когда комиссар поставил «заговорщиков» на краю обрыва и объявил приговор, прибежала она, в расстегнутом нараспашку пальтишке, с растрепанными волосами, и встала перед священником, раскинув руки, закричала срывающимся голосом: — Стреляйте в меня! Стреляйте в меня! Расстрел не состоялся. К сожалению, я не помню имени этой бесстрашной героини. Но знаю, что у нее учился мой старший брат Александр. Потом она уехала в город. И больше мы о ней ничего не слышали. Наверное, ГПУ не простило ей этой дерзкой выходки. Купцов перед коллективизацией сослали на край света, а отец Иван, на радость прихожан, продолжал церковную службу. Дети его работали учителями. Я учился у Леонида Ивановича в Карандышеве. Дядя Николай продотрядчиков называл разбойниками. Мама остерегала старшего деверя, просила потише. А он еще громче: — А кто же они, если не разбойники?! Приходят с ружьями и отнимают последнее. Помню облавы на дезертиров. Дядя Николай смешно говорил: «дизеклиры». Молодые мужики почему-то не хотели воевать за свою родную советскую власть. Старики и старухи считали большим грехом идти брат на брата. К тому же в нашей деревне подлежащие мобилизации были женатыми, имели детей. В Дашках на 16 домов было три дезертира. Самым сильным средством, придуманным комиссарами против дезертирства, был увод с крестьянского двора коровы. Как только ее, кормилицу, выведут со двора, как хозяйка заголосит на всю округу, так дезертир и объявится. Так было и в тот раз, когда пришли за Филиппом Парфеновым и двумя Иванами — Акимовым и Парфеновым. Филипп, прятавшийся в овине, объявился. А Иваны, видно, далеко были, они не вышли, даже когда привязанных к солдатскому полку коров повели все дальше и дальше за деревню. Парфенов Иван исчез навсегда, оставив круглой сиротой трехлетнюю девочку Тоню. Мать ее годом раньше умерла от тифа. А Иван Акимов дождался амнистии дезертирам и объявился свежим, загорелым. Во время его скитаний жена родила девочку Машу. Бабы ожидали суровой расправы за неверность, а он и пальцем не тронул свою Парасковью, хотя ух как крут был на расправу. Тогда бабы стали говорить, что девочка похожа на отца. Дочь дезертира Маша Акимова выросла и воевала с фашистами. Награждена многими боевыми орденами. ...Почитайте повести о детских годах Толстого, Аксакова, Гарина-Михайловского. Какие светлые воспоминания! А что вспомнить моему поколению? Пронзительный плач соседки по уведенной со двора корове? Пальбу под обрывом? Лучину? Домотканые штаны? Все это накрепко врезалось в память, потеснив немногие светлые, выпавшие на нашу долю воспоминания. МЕШОЧНИКИ С. Ожегов это слово толкует так: «Мешочник — спекулянт, занимающийся перевозом и перепродажей дефицитных товаров». Д. Ушаков уточняет: «Мешочник — человек, ездивший в хлебные места за продуктами и спекулирующий ими (в годы гражданской войны)». В обоих случаях — спекулянт, а спекулировать, если мыслить по-большевистски, это дурно. Если частное лицо что-то купило и затем продало — это всегда спекуляция, паразитство. Другое дело, если советская власть отберет или купит за смехотворную цену, которую сама же назначит, и потом разделит между своими, — это благородно, это по-социалистически, это революционно. Такая установка вошла в уголовный кодекс. Купил и продал — спекуляция. Срок от пяти лет и выше. А если украл у частного лица и продал, срок до одного года. Абсурд. Но им руководствовались советские юристы десятки лет.Мешочник — враг пролетариата, помеха в работе продотрядов, изымающих у кулаков и зажиточных крестьян излишки. Советская власть вела беспощадную борьбу с мешочничеством. Но мешочниками становились и по горькой нужде многодетные малоземельные крестьяне, которым своего хлеба едва хватало до нового года. Они ежегодно прикупали по нескольку пудов хлеба в лавках местных купцов. Но, как сказал дядя Николай: «Пришли большевики, — не стало ни хлеба, ни муки». Чтобы дети, пухнувшие с голоду не умерли, отец семейства отправлялся в хлебные губернии, то есть становился мешочником. Старикам такие поездки были не по силам. Ехали мужики крепкие, уцелевшие на империалистической и гражданской войнах. Собирали последние вещички: обручальное колечко, «рыжичек» (монета царской чеканки), кусок холста или другой материи, пролежавший в сундуке долгие годы. Словом, брали отложенное па черный день, понимая, что вот он, черный день, уже наступил, и ехали. Что может быть чернее смерти ребенка от голода?! Пролетарии, те собрали отряды, дали им в руки винтовки и послали отбирать у крестьян «излишки». Я не помню, как отец собирался и уехал в «хлебную губернию», но хорошо помню его возвращение. Мать сияла: — Вставай! Папанька приехал! Хлебушка привез! Вечером пришли мужики, водившие с отцом дружбу. — Рассказывай, Олеха, как съездил? — В заградиловку не попал? — Две заградиловки прошел! — с гордостью отвечал отец. Мужики восхищались удачей Олехи Райкова. Он, как всегда, рассказывал в лицах, то есть изображал, как оно было. Заградительные отряды комиссары выставляли на подступах к Москве и другим крупным городам. Идет поезд из хлебной губернии, а его уже ждет заградительный отряд. Мешочники волнуются: вот сейчас отберут у голодных детей последний кусок, добытый с таким трудом на последние пожитки. На паровозе уже командует комиссар, севший на каком-то полустанке. Поезд по его приказу останавливается. Заградотрядники, хоронившиеся за насыпью, встают во весь рост, винтовки наизготовку. Выпускают несчастных из вагонов, повторяя приказ: «Мешки с мукой и зерном, складывайте сюда! При сопротивлении — расстрел!» Мешочники медлят. Их поощряют прикладами. Солдат много — уж не проползет. Пассажиров без мешков заворачивают в другую сторону. Вырастает курган из отнятых мешков. Тщательно обыскивают пустые вагоны. Отголосок этих ограблений слышится сейчас на Кавказской дороге в Чечне. Только тех грабителей называют бандитами, а тут действовали по приказу комиссара. Ограбленные мешочники, если они не оказывали сопротивления, могут идти на все четыре стороны. Дашковские мужики знали, что такое заградиловка, потому и восхищались удачей моего отца. А он показывал узкие пудовые (на 16 кг) мешочки, как он подвешивал их на лямках, перекинутых через плечи и спущенных ниже поясницы и там прихваченных ремнем. Длинная шинель скрывала мешки с мукой, которую ждали дома четыре голодных рта, не считая мамы. Отец изображал, как менялась у него походка от двухпудовой подвески. — Вот так иду мимо комиссара, держусь за бок, вроде у меня прострел от простуды. «Что в сумке?» — спрашивает комиссар. Показываю. А там у меня пустой мешок, брал на всякий случай. И этот мешок, как пропуск, решил дело. «Зря ездил?» — «догадался» комиссар. «Зря», — отвечаю и иду, куда указано. Пронесло! Пронесло! Знать, Ефросинья хорошо помолилась с ребятишками! Мужики смеялись, дружески хлопали отца по загорбику. Вот что такое мешочники. Ленин и его наркомпрод Цюрупа считали мешочников злостными дезорганизаторами снабжения пролетарских центров продуктами. Тамбовские мужики предпочитали продать хлеб, чем отдать за так. Возможно, какая-то московская семья и подкрепилась бы двумя пудами муки, которую мой отец увез в деревню Дашки. Но если бы он не перехитрил заградиловку, то наверняка кто-то бы из нашей семьи умер. Незадолго до этого отец с мамой унесли на Спасское кладбище мою младшую сестренку Аню. Помню, как отец сколачивал гробик, как мама делала перевязь из двух полотенец, на которой они по очереди несли скорбную ношу пять верст до Спасского, где священник отец Иван утешал их словами: «Не печальтесь. Ангельская душка скоро будет в раю. У вас еще четыре сына. Берегите их». Может, потому отец и решился поехать в Тамбовскую губернию, чтобы спасти живых сыновей. И спас! Мужики спрашивали про тамбовского крестьянского вожака Антонова, про Марусю, которая, якобы, ходит в красных галифе. Потом, после реабилитации, я лет двадцать жил в Тамбове и интересовался и Антоновым, и Марусей, бывал в тех местах, откуда родом вожаки крестьянского восстания. Несомненно, это был не кулацкий заговор, а настоящее крестьянское восстание, заявившее решительный протест грабительской политике советской власти. ЛУЧИНА Испытание мужика на выживание продолжалось...Худо крестьянину зимой без керосиновой лампы, без фонаря. Бабы по вечерам не могут прясть, шить, чинить бельишко, одежонку. А все обносились. Хозяин не может подшить валенки, сплести лапти, входившие при новой власти в широкий обиход, подремонтировать упряжь. Хозяйки ощупью доят коров, ощупью дают корм скоту. Дети не могут приготовить уроки. Только молодым хорошо. Целоваться в темноте даже лучше, не так совестно. Мама горюет, что не за понюшку табаку летят долгие зимние вечера. И вдруг говорит: «Отец, сделай светец!» — улыбается, что получилось в рифму. В сенях у отца был верстак и всякий инструмент. Смастерил он высокого, но устойчивого козлика. На спине козлика поставил две стойки. На торец одной стойки набил кольцо, а в центр загнал один к одному три кованых гвоздя с оторванными шляпками. Верхние концы гвоздей развел сантиметра на три. Получился лучинодержатель. На перекладинку подвесил выдолбленное из полена корытце. Светец готов. Лучину мама приготовила загодя из ровного березового полена (хорошо колется еловая, да больно трещит и стреляет угольками) и просушила на печке. Зажженная лучина вставляется в трезубец, и комната-горница наполняется светом. Светец поставили посреди избы, в корытце налили воды, чтобы отпавшие от лучины угольки сразу тухли. Брат Гринька по такому случаю пустился в пляс. Мама дала ему щелчка. Невелика, мол, радость. Вот если бы керосин появился в доме, тогда не грех и сплясать. Гринька пообещал тогда сплясать еще пуще. Мама принялась чинить отцовы рукавицы. Сам он ушивал лопнувшую подпругу седелки. Братья Михаил и Гринька принялись за уроки, а меня поставили дежурить у светца. Чем я очень возгордился. Надо было снимать угольки щипцами, как снимают нагар со свечи. Лучина длиной сантиметров 30—40, шириной примерно в два пальца сгорает за две-три минуты. Языки пламени колеблются, немного дымят и коптят. Требуется сноровка задавать наклон лучине. Много наклонишь — будет гореть хорошо, но может вспыхнуть вся лучина, мало — потухнет. Трезубец зафиксирует любое положение, его надо все время искать. Брат Миша сразу освоил эту премудрость, а у меня на первых порах не ладилось. Самое страшное потерять огонь. Все дела в доме остановятся. А главное — спичек нет. Придется раздувать угольки, тлеющие в печи. Чу! Мама запела в полголоса: «Что же ты, моя лучинушка, не ясно горишь?» Отец так же тихонько ей подпевал. Потом завели еще более грустную: «Догорай, гори, моя лучина, догорю с тобой и я». Видно у них был такой «лучинный» настрой, связанный с возвращением в крестьянскую семью давно забытого освещения. На нас глядя и в других избах зажгли лучину. На моей памяти это одно из ярких — если лучина сухая! — достижений, советской власти прошло как-то незаметно. Журналисты не поднимали шума, не писали крупными буквами через всю газетную полосу: «Каждой крестьянской семье — свой светец!» Или: «Сухую лучину — в каждый дом». Сделали вид, что не заметили возвращения лучины в крестьянскую избу. Зато, когда в тверском селе загорелась лампочка Ильича, шуму было много. Но вот спустя года два в деревне Кобелихе, еще не переименованной в Красное Заречье, тоже загорелся электрический свет. Крестьяне радовались помольцы, приезжавшие на Кобелихинскую мельницу, тоже радовались, а газетного шуму не было. Почему бы это? А дело в том, что Кобелихе свет дал... кулак, мельник Иван Иванович Радостин. Не хвалить, же кулака. Кто его об этом просил? Еще надо разобраться, какую свою кулацкую выгоду он преследовал? Никакой выгоды Радостин (фамилия-то какая!) не преследовал. Расходов много, благодарностей от мужиков тоже много, а выгоды нет. Просто человек поверил в нэп. Он собирал голосистых мужиков и парней соседних деревень и устраивал, как тогда говорили, спевки. Потом хор под управлением Ивана Ивановича Радостина пел на клиросах храмов Пречистой горы, Авдотьина, Ратислова, Спасского. Вот такой был кулак-мироед в Кобелихе. Мельница у него была на четыре постава. Тогда водяных мельниц на Колокше от Юрьева до Владимира было шесть. Радостин купил водяную турбинку, провода, изоляторы. Мужики напилили длинных бревен, выкопали ямы, поставили столбы. Нанятый Радостиным электрик повесил провода, ввинтил лампочки, запустил турбинку. Загорелся свет! Я упросил отца взять меня на мельницу. Очень хотелось поглядеть, как это без лучины, без керосина, без лампадного масла горит свет? Мы приехали днем. Мощный поток воды, бежавший по первому лотку, еще крутил жернова первого постава. Стало темнеть. Засыпка (рабочий на мельнице, следящий за режимом помола и останавливающий, когда надо, жернова), предупредил помольщиков: «Минут через пять будем пускать турбину!» Это означало, что стоящие в очереди на первый постав до утра свободны. — Вот погляди, Павлик, как сейчас запустят турбин, — сказал мне отец, уже видавший это чудо. Засыпка перекрыл воду, бежавшую к первому поставу и поднял затвор, запирающий лоток слева. Вода бешено покатилась по лотку и где-то там внизу ударила в лопатки турбины. Закрутился вертикально стоящий вал, издавая непривычный для уха звук. Теперь его можно сравнить с гудением старого пылесоса. — Чего же свет не загорается? — нетерпеливо спрашивал отца. — Погоди, вот турбин пуще раскрутится. Отец и другие мужики переделали турбину в турбин, видно полагая, что крутить динамо-машину дело не женское. Засыпка зашел в будку, куда я боялся даже заглянуть, повернул рубильник и свет загорелся! Он был не яркий. Все красные ниточки в продолговатых лампочках можно было пересчитать, но тьма, царившая в помольном зале, отступила. Лампочки все белели и белели, кругом становилось все светлее и светлее. Смотреть на лампочку было трудно. — Не гляди! — сказал отец, — глаза заболят. «Как же люди будут жить при этом свете, если от него глаза заболят?» Отец, видно, понял мое состояние, успокоил: — Вредно долго глядеть на яркий свет. А ты не гляди, и ничего не будет. Наш дашковский мужик Петруха Михайлов, впервые видавший электрический свет, воскликнул с восхищением: — Валенки бы подшивать при этом свете! А то шилом крутишь, крутишь... ПОВИННОСТИ Повинностей на крестьянина при советской власти свалилось много. Кроме воинской, которая существовала и при старой власти, мужик выполнял труд-прод-гуж повинности. Мужчины и женщины, достигшие 16-летнего возраста, повинны были пилить дрова, лес, собирать камни для мощения дорог, все это грузить и возить своим транспортом. Значит, повелевалось держать в исправности и телегу, сани, упряжь, и коня.В деревню из волостного совета присылали с варочным бумагу, где сказано, сколько напилить дров, куда их отвезти не позднее указанного числа. И попробуй ослушаться! Сейчас же приедет на рысаке в красивом возке, отобранном у фетининского барина, комиссар и с помощью бедноты быстро выявит злостного саботажника, которому несдобровать. Мужики безропотно пилили дрова в барской березовой роще для школы, для больницы. Со скрипом, но все-таки пилили для волостной конторы. И очень неохотно — для уездных учреждений. Задание давалось в кубических саженях: напилить и расколоть пополам. Из Дашков ходили четыре 16—18-летних парня. Среди них наш Миша. Вставали рано, брали горбушку хлеба и шли за четыре километра. Там в глубоком снегу работали дотемна. Дома отцы и деды по вечерам при лучине правили им топоры и пилы. Матери сушили у печки одежонку и варежки. Утром снова в барскую рощу. Изматывались так, что даже по воскресеньям ни на какие вечеринки не ходили. Мама просила отца поговорить о замене юных дровосеков. Но тут пришла новая бумага, погнавшая в барские леса всех способных держать в руках пилу. Не пощадили и девушек. Дядя Николай сочинил частушку: «Отчего девки не любят нашу красную звезду? На совет дрова пилили — отморозили п...». Опытные мужики, пилившие, бывало, у барина и купцов лесопромышленников, возмущались бездумными распоряжениями советских десятников, пускавших под топор совсем молодой, в руку толщиной березняк: «Через семь-десять лет тут можно взять дров в пять раз больше. А этим все равно: после нас хоть потоп». Ни инструментов, ни спецодежды работодатель не давал. Выломил у топора нос или бородку, что при работе с мороженым лесом бывает и нередко, — крестьянин остается без топора. Купить его негде. А без топора как без рук. Пилы тоже не вечны. Они и ломаются, и зубья теряют. Люди донашивали последнюю одежонку, рвали на косых порубах обувь. Рвали сани, гужи, мучили лошадей. Иным мужикам и женщинам этот лесоповальный опыт пригодился в лагерях Мордовии и на Урале, на просторах Коми республики и в Красноярском крае. Но там хоть давали инструмент, одежду, пайку хлеба и баланду. Правда, те жили за колючей проволокой. Летом повинностей было меньше. Гоняли только на починку дорог, мостов. В начале зимы опять пришла бумага с цифрами: сколько напилить, куда отвезти. Начался ропот: «Сколько же можно работать за так?! Поищите дураков в другом месте!» — Поищем, — покладисто согласился начальник из волости. — Но тогда другим пойдут соль, керосин, спички. Боже мой, какое оживление вызвали эти три слова: соль, спички, керосин! Мизерно мало; сулила им советская власть за тяжелый труд, но как радостно зашумела сходка. К столу, где сидел приехавший из волости, подходили мужики, бабы, подростки. Говорили всего два слова: «Запишите меня». Спустя недели две Миша пришел из леса позже обычного. Положил на стол четыре коробки спичек. Сказал, чтоб приготовили бидончик под керосин. — Велик ли? — спросила мама. — Фунтов на пять (на два литра). Как мы вечером ждали его возвращения! Мама просила отца встретить Мишу: — Неровен час, мазурики нападут. Их теперь много развелось. — Четверо таких молодцов! Отмахнутся, — говорил отец. — Чай, догадаются хоть один топор взять. Однако пошел встречать. Лучину убрали. Зажгли самую маленькую пятилинейную лампу. Гринька по этому случаю пустился впляс. А еще недели через две Миша принес фунтовую (400 гр.) пачку соли, две иголки и катушку черных ниток. Конечно, это был маленький дешевый «пряник», но действовал лучше самого жесткого кнута. — А ситчику не обещают? — спросила мама. — Обещают только тем, кто перевыполнит нормы. В лес стал ходить и Гринька. Хоть сучки поможет собрать. Если бы при царе были такие повинности, как бы потом о них писали во всех советских учебниках! КРАСНЫЙ ЛЕВ Большевиком номер два был, конечно, Троцкий. Деревенский фольклор тех лет в этом не оставляет никаких сомнений. Во всех жанрах подчеркивается близость Троцкого к Ленину. Молодежь, принявшая революцию, пела бодро и уважительно:«Со востока солнце светит. Едет, едет комиссар. Едет, едет с Троцким рядом со товарищем своим». Не знаю, садился ли когда-нибудь на коня комиссар Ленин, но в песне он на коне. Девушки пели озорную частушку: «Подружка моя, я в себе уверена: Если Троцкий не возьмет, выйду за Чичерина!» Тут Лев Давидович в роли жениха номер один. И Георгий Васильевич Чичерин вставлен в частушку не ради рифмы. Он пользовался популярностью в связи с бурной дипломатической деятельностью новой России. Позже стал заметным Л.И. Рыков. Особенно когда он отменил «сухой закон». Водку государственного разлива сразу окрестили «рыковкой». Знали крестьяне и М.И. Калинина. А вот Сталина до коллективизации мало кто знал. Зато потом уж узнали до бесчувствия. О близости Троцкого с Лениным говорит и антисоветская частушка: «Ленин Троцкому сказал: давай поедем на базар. Купим кобылу карюю — накормим пролетарию». Лев Давидович изрядно заботился о своей популярности, как говорят в театре, работал на публику. С детства помню яркую листовку, отпечатанную на хорошей бумаге яркими красками, что по тем временам было непросто. Это был дружеский шарж на Льва Троцкого. Красный лев, обличием похожий на Льва Давидовича, лежит на трофеях. Под лапами и брюхом красного зверя подмятые им золотые погоны, мундиры, корона, перстни и другие символы разбитых классовых врагов. Подпись: «Лев Давидович Троцкий». В лице почти ничего шаржированного. Выписано с уважением к персоне. Несомненно, Троцкий видел оригинал художника и благословил тиражировать на глянцевой бумаге. Вот так, в русской крестьянской избе, не отличавшейся революционностью, на видном месте висел плакат с изображением Троцкого. Висел долго, пока не засидели мухи. Ленин Троцкого любил, оберегал его репутацию. Помните его секретную записку членам политбюро об изъятии церковных ценностей, где Ильич приказывает проводить этот грабеж «с беспощадной решимостью»? Конечно, такую операцию мог бы с блеском провести Лев Троцкий. Но Ленин, оберегая его, требует: «Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только товарищ Калинин — никогда и ни в коем случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой товарищ Троцкий». Калинин — козел отпущения. Позже Сталин на банкетах так его и звал: «Ах ты Всесоюзный козел мой!» А не позаботься большевик номер один о репутации большевика номер два, глядишь, в крестьянских избах Красный Лев и не красовался бы, несмотря на то, что художник талантливо передал портретное сходство и прописал блики на очках. Полагаю, Сталин того художника в живых не оставил. Стихотворение про мальчика-пахаря я выучил, еще не умея читать. Брат Гринька зубрил, а я прислушивался и запомнил: «Вышел внук на пашню к деду в рубашонке, босиком, улыбнулся и промолвил: — Здравствуй, дедушка Пахом! Ты, я вижу, притомился? Научи меня пахать, как учили мы бивало «Отче наш» с тобой читать. — Что ж, изволь, коли охота и силенка есть в руках. Научился, будь помощник деду старому в трудах». Там были еще слова: «И, крестяся, к ручкам плуга внука за руку подвел». И далее: «Бодро, весело лошадка выступает впереди. А у пахаря-то сердце так и прыгает в груди». Когда я пошел в школу, это стихотворение уже попало под запрет. Еще бы, там ведь такие «ужасные» слова: «Отче наш» и «крестяся». Много стихотворений, выученных, как мама говорила, впрок, оказались под запретом. Но именно их я и запомнил на всю жизнь, потому что они глубоко запали в душу. Мама уверяла: — Этот стих про нашего Сашу. Его вот так же покойный дедушка Николай Андрианович, царство ему небесное, перекрестясь, подвел к плугу. Чапиги ему до бровей были. Вцепился ручонками, висит, а плуг от этого вылетает. Я загоревал: — Дедушка Николай умер. Кто меня подведет к плугу? — Папанька или Саша, — сказала мама. — Саша теперь первый пахарь на всю округу. Отменный сеятель. Двумя руками кидает семена под правую и левую ноги. Так редко кто умеет. К нему за советом идут, где что посеять, плуг наладить. И пришел мой черед взяться за ручки плуга. Мама дала мне пустой глиняный кувшин. — Сходи на ключ, набери воды и отнеси Саше в поле. Он пашет за рощей... Под ноги-то гляди: на кореньях пальцы побьешь и кувшин расквасишь. Она еще что-то говорила, но я уже бежал на ключ. Скорее к Саше. Вчера он пообещал научить меня пахать. Рощица маленькая. Тропинка, вся перевитая корнями, вела на подъем. Я, забыв наказ мамы, не глядел под ноги, спешил, поминутно спотыкаясь о выступавшие корни. В кувшине плескалась родниковая вода. Сейчас Саша припадет к кувшину... Вон он разворачивает Рыжку, легко переводит плуг в другую борозду. Рыжко неторопливо шагает навстречу мне. Саша замечает меня, потянул за вожжи. Рыжка встал как вкопанный. Напившись, Саша рукавом рубахи вытер лоб и губы. Кувшин поставил на сырую землю, накрыл лопушком. Я решился напомнить ему о вчерашнем обещании. Он сам догадался, взял меня за руку и подпел к плугу. — Сейчас ты поведешь свою первую борозду, — сказал брат. — Пашут Рыжко и плуг, а пахарь только не дает плугу упасть на бок. Если будешь висеть на чапигах, плуг выскочит из борозды. — Саша сильно нажал на ручки и показал, как лемех сразу задрал нос вверх. — Понял? Так что висеть на ручках не надо. Не надо и плуг толкать вперед. Рыжке этим не поможешь. Он даже не почувствует твоего толчка. Если будешь давить на ручки вправо, плуг будет стремиться влево. И наоборот, жмешь в эту сторону, водило отклоняется в ту сторону. Он перекрестился коротким крестом, сказал: «С богом!» и тронул Рыжку... Некоторое время Саша шел рядом и, чуть склонясь, слегка придерживал ручку плуга. Иногда его большая ладонь крепко прижимала мою руку. Мне не терпелось остаться одному с Рыжкой и плугом. Саша понял это, пошел рядом, не касаясь чапиг. Я еще, крепче ухватился за ручки и, видно, немножко повис. Плуг сразу выскочил из борозды. Рыжко, умница, почувствовав облегчение, сразу остановился. Саша натянул вожжи. Рыжко попятился. Саша оттащил плуг назад, поставил в борозду и тронул Рыжку. Саша ничего не сказал, но я понял, какая неприятная штука, когда плуг вылетает из борозды. Рыжка тянул плуг все дальше и дальше. Пласт влажной земли, казалось, отваливался легко. Слетались грачи, шли следом, собирая свою добычу. Вот и конец полосы. Рыжко привычно завернул в другую сторону и встал, давая время пахарю поставить плуг в борозду. Поставил плуг, конечно, Саша. Тронул Рыжку и передал ручки мне. До чего же верно сказано в стихотворении: «А у пахаря-то сердце так и прыгает в груди!» До сих пор, как вспомню, — запрыгает. В одном фильме белоголовый мальчик идет за бороной по вспаханному полю. Образ крохи-крестьянина вызывает чувство жалости: «Боже, кому приходится ходить за бороной. Наверно, отец и старшие братья мальчика погибли на войне!». А я иначе воспринимаю образ: некрасовский мужичок с ноготок! Посмотрите, какая крепкая лошадка тянет борону. Отец «мужичка» только что засеял полосу, присел в конце кулиги и курит, посматривая, как наследник привыкает к крестьянскому делу. Правда, такое толкование возможно при условии: если «мужичок» пришел к нам из двадцатых годов. Тогда крестьянские дети рано начинали ходить за бороной и плугом, и это не говорило о беде. В послевоенные годы дети пахали на коровах. Вот уж кричащая беда. Владимирскую землю до коллективизации на коровах не пахали. Случись при моей первой борозде человек с кинокамерой, и я стал бы символом крестьянского горя. К тому же и Рыжко более старый конь, чем тот, за которым идет белоголовый мальчик. Хотя я был чуточку выше киношного мальчика, зато шагал не за бороной, а за плугом. А пахарь в крестьянском деле — высший класс. Выше его только сеятель. Далее » » » Я МНОГО ПОМНЮ… Рачков П.А. Часть 2 |
|
|
22.01.2025
13:57
| Приветствую Вас Гость | RSS |
 |